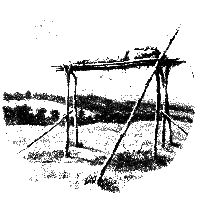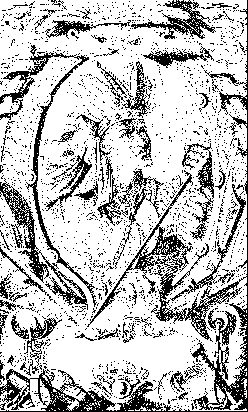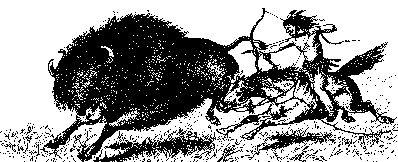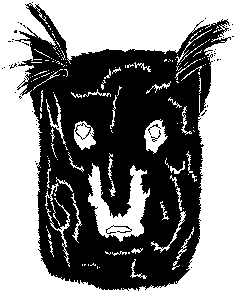|
ТРИ ГРАЦИИ
I. О теургическом государстве.
Всякое государство, основанное на стремлении
постоянного преосуществления себя вне пространства и времени, т.е. в вечности,
иначе говоря - государство тоталитарное, может осуществить свою идею только
путем полного, сомнамбулического подчинения себя магическим волхвованиям,
мистериальному театру, служащему выявлению и очищению в человеке некоего
государственного божества.
|
Таким образом - идея тоталитарного государства есть
идея абсолютного слияния божества и его осуществленной государством модели,
т.е. - идея теургическая, деятельная, похожая на балет, осуществляющая себя
путем медленного погружения в магическую действительность, неподвластную
теургам, которые только вызывают ее из небытия повторяющимися заклинаниями.
Начинается пленительный, околдовывающий процесс
рождения сновидения из сновидения. Разреженное пространство страны беззаметно
преобразуется. Страна тает. Возникают особые, прелестные образования, дивные
миражные области, населенные людьми, похожими на утреннее движение
раскрывающихся цветов, на полуденную игру бабочек, ткущих зной, невозможные и
неизбежные в неодушевленной самораспадающейся гармонии вьющихся мистериальных
радений, выпоенной кровью впавших в детство философов и настоянной на
вдохновении купленных за деньги поэтов. Теургия, осуществляя себя,
обессмысливает и отрицает механизм, осуществлявший ее, т.е.
- теургическое
государство.
И тогда бог, а вернее тень, призрак, мнимость,
стремящаяся быть Богом, снова, как в своем бессмысленном и злобном младенчестве,
превращается в кровавого палача, даже и ни на один волосок не поднявшись к
небу, которое было так желанно, так близко...

II. О
клевете.
В одном из первоначальных набросков
"Саломеи" Уайльда иудейской царевне является Христос,
"синеокий", в пропыленном хитоне. Саломея, полуобнаженная,
наклоняется у медного зеркала. Вздрагивает. Закрывает маленькую грудь ладонями.
Христос: "Ты оклеветала мир, ты растлила танец." Берет ее за руку.
Выводит из дворца в свежую тьму пустыни. Его ладонь чувствует дрожь ее стыда.
- Кто ты? - Я есмь воскресение и жизнь. Она пытается соблазнить Его.
- Возвращайся во дворец. Ты оклеветала мир, ты растлила танец. В темноте, она
уходит вздрагивающей походкой."
Мне удалось собрать что-то вроде маленького
трехчастного комментария к этой неосуществленной умирающим в Париже эстетом
сцене:
1. В плотиновском пояснении строки "Боги создают облачные подобия ради
удовлетворения похоти людей" одного из божественных гомеровских гимнов
сказано: "Клевета есть демоническое
осуществление призрака истинного божества, игра теней, иллюзия истинного света,
увлекающая слабых духом, подменяя в них любовь похотью."
2."Обвевая
ум неуловимым гибельным сладострастием, она обещает уму полет вместо слез
любви. Она соблазняет человека чередой блаженств, забытых и отвергнутых Богом,
где отверженные души кружатся, испуганно и удивленно крича, словно длинные,
огромные птицы, напрасно, тщетно ища ее истинного имени. Мертвое растленное
подлинное имя земного зла" - пишет другу африканский епископ
Тертуллиан.
3. Безымянный гностик называет Христа певцом, замечая
в комментариях на Матфеево Евангелие: "Ясно
зримо, что чем вдохновеннее певец -
тем
наглее шаг клеветы, ступающей пьяной поступью, с раскрасневшимися щеками,
- след в след за ним."
|
Но кто она - неужели же действительно только демон?
- эта иудейская девочка-царевна-растлительница, танцовщица, ночная собеседница
Христа, Клевета? Почему ее очеловеченный, зримый образ рождает в душе подобие
умиления и жалости? Или это просто прозревание утраченного подлинного облика
того, что называется "земным злом"?
Потому что зло, будучи по своей природе лишь тенью
некоего неизвестного, невоплощенного на земле свойства вечности, бывшего лишь
только в Раю, заслуживает не изгнания и истребления, но, скорее. некоего
перевоплощения в душе, служащего выявлению истинной (Божественной) неискаженной
временем и тлением картины мира.
|

|
III. О
посвящении чаш.
 |
Как бы из незримого хоровода, из вихря крыл,
бестелесные руки подносят нам наполненные перистым светом яблоки в чашах из
серебра: дары мысли и разумного духовного видения. Нам возможно передать в мир
лишь их призрак, наивное и нечеткое повествование о мудрости, цветущую тень,
сотканную из неустойчивых, как дым, смертных слов. От первых лет человечество
хорошо знало этот бесплотный, полувоздушный танец, но знало и опасность его. |
В одной из недошедших трагедий, кажется, аргосского
или аргонавтского цикла Софокл описывает некоторое, тихо обвевающее мозг,
дуновение незримых демонов, чьи дары подобны отравленному венцу Медеи, поэтому принимать
их в сердце, согласно дословному переводу подлинника следует "лишь посвятив какому либо бессмертному и
славному богу, который чудным и неизъяснимым образом очистит дар".
Софокл сравнивает процесс очищения с тайным омовением священной водой, текущей
из родников "невидимо
-
но светло;
прозрачно и явно", уподобляя ей незримые слезы вознесенной к высотам
Олимпа души. Как закономерно! Как странно.
Здесь, в этом крохотном отрывке папируса, в этой
просмоленной ленте, два тысячелетия обвивавшей чей-то умащенный, иссохлый труп,
замогильный, полусумеречный голос сладчайшего афинского драматурга соединяется
с безгласным действием Моисея, посвятившего Иегове храмовую утварь Египта,
незримо изменив посвящением ее мистериальную суть.
Странно, но всякий человек, чтобы понять смысл своей
приземленной деятельности, должен побывать на небесах. Правда, одновременно он
должен спуститься в ад и, таким образом, совершить при жизни полное загробное
путешествие, но я говорю только о небесах, хотя путь на небеса и ад
- родственные понятия хотя бы по своей боли. "Боль и стыд, словно отпущенная
тетива, выбросили меня в небо" - говорит архиепископ Пизанский, сам
похожий на эту накрененную узорчатую постройку во время проповеди.
Небезынтересна судьба его, родственная судьбе Гоголя и Джона Донна. Просвещенец
и памфлетист, венецианский друг Казановы, на четвертом десятке он впадает в
длительную депрессию, затем постригается, затем проповедует в Японии и Китае и
через пятнадцать лет возвращается в Рим живым,
хотя и походящим несколько лицом на японца. Папа поручает ему епископство.
| Его внук оказался страстным собирателем автографов и
документов семейных русских архивов. В частности, в его коллекции хранится
любопытное письмо из посольской миссии турецкого города Стамбула в Москву
Аксакову касательно смерти брата, его исповеди и личности его последнего
духовника, безымянного монаха византийского патриархата, который был, тревожной
заостренностью черт лица, дьявольски похож
на одного мертвого.
|

|
Аксаков узнал его.
- Николай Васильевич, почему? - спросил он.
Мертвый Гоголь приступил к совершению
таинств.
Истинного значения документа
владелец его, конечно, не понимал. Он видел в
нем только материализованную игру
предсмертных воспоминаний и, зная мир,
трудно было бы начать утверждать обратное,
когда бы не статья "Патмос" некоего
Лакедемониса, опубликованная в афинском
литературном журнале "Гром"
одновременно с переводом дневников Байрона.
Путешествующий грек пишет:
"Я познакомился на Патмосе
с одним константинопольским черноризцем,
по случаю праздника. Праздновали открытие
найденной рабочей кирки апостола Иоанна,
автора "Апокалипсиса", новой
православной реликвии.
Мы выпили хорошего
средиземноморского вина.
Он сказал:
- Я ведь тоже когда-то был литератором.
- О! - сказал я.
- Только я это дело, знаете ли, мой друг,
забросил, да, и даже, представляете ли, забыл
за неупотреблением родные буквы, так что не
могу теперь по-русски, ну хотя бы этак даже
ради шутки, сказать, что ли, словцо, например,
какое-нибудь такое, например "лапоть",
или на худой конец "козак", "репа",
"порты" какие-нибудь. Говорю по-гречески.
На поверхность моря опустился
чудный ионийский закат. Край небес
подернулся прозрачным багрянцем. Вдали
мерно зазвонил невидимый монастырский
колокол. Мы доели хлеб и выпили остатки вина,
одновременно собирая пальцами с колен
крошки сыра.
На другое утро я слушал
проповедь весьма чтимого на Патмосе отца-игумена
Григория о дыхании
Божием, в которой тот, кстати замечаю,
помянул нелестным словом нас, литераторов,
сказав что мы по сути своей есть что-то
вроде больших охотничьих труб, т.е.
превращаем дыхание Святого Духа в сигнал
преследования. При этих словах мой
вчерашний черноризец подмигнул мне, лицо
его немного неестественно передернулось и
он показался мне живой иллюстрацией слов
Григория о писательствующем христианине,
что "пытается "творить" на самой
нашей Голгофе". Который "усаживается
под крестом на корточки и, скашивая глаз на
распятого Христа, пишет про вращающийся
хоровод поселянок или же закат на реке". В
тот же день я отправился осматривать
очаровательные античные мраморы, брошенные
каменоломни и склоны гор..."

Кажется, приведенного отрывка вполне достаточно (далее
стиль бледнеет, становится как бы подслеповат, возвращается к выгоревшему
романтическому трафарету). Сознание грека было очевидным образом
гоголизированно присутствием так называемого "черноризца".
Но кто мог сделать это тогда, кроме, очевидно, самого
Николая Гоголя? И надо только обладать способностью проявить симпатические
линии его дальнейшей продолжающейся судьбы...
Но как он обминул ряд неустраняемых фактов собственной
биографии, воскрес, выкопался из могилы? Кому приписывать оставленный в гробе
труп? Полно, был ли этот "безымянный черноризец" действительно живым
человеком или тайным, скрытым, неканонизированным, не внесенным в Святцы
святым, в перерыве вечного смеха
пришедшим исповедовать умирающего?
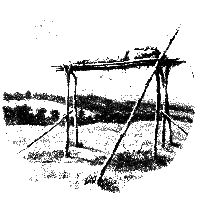 |
Разбирая брошенные записи, прерванные дневники,
безначальные, не требующие продолжения заметки, очарованный их графическим
изяществом (трава слов), натыкаюсь на переписанную мной страницу из письма
молодого Сергея Соловьева Андрею Белому:
"Кто я? Что я?
|
Моя
молодость готовила меня в пищу львам, как римского христианина. Наделенный
больной способностью проницать внутренний
пейзаж человека, видеть его истинную вязь биографии, я пережил самого себя.
Мир похож на далекую, не имеющую звучания арлекинаду, видимую вдруг в
опустевшем конце проезда. Вспоминая ее, я испытываю странное жжение жалости. Я
неясно наблюдаю иную землю, где свет земли станет для меня одной из далеких
звезд, мертвенной и смертной планетой, которую я еще могу любить, блаженную,
багровоокаймленную, похожую на пирующую трупную бабочку в тот далекий, похожий
на стрелу день, когда Бог не спас уже помутненную безумием душу моего друга."
Но кто он был, этот "не
спасенный друг" молодого Соловьева? Неожиданно неоднозначный вопрос.
Однако попытаемся же на него возможно более полно ответить.
| Есть люди, похожие как бы на лепестки цветов в книге
между страницами. Безымянные, случайные, не связанные ни с сюжетом, ни с
слогом, ни с полиграфией, они служат катализатором
меланхолической кристаллизации памяти в человеке. Естественно, что
находящийся под ее магическим воздействием Соловьев никогда, даже напрямую
обращаясь к его образу, не упоминает его имени. "На дворе" все-таки
стояла эпоха "зорь", душное и розово-алое лето 1901 года, время Новой
Вифлеемской Звезды над кровлями.
|
 |
Молодая Москва была зыбка и влюблена в свою молодость.
Было совершенно непонятно, где кончался вздрагивающий блестящеглазый прозрачный
дом, начиналась небесная лазурь, дыбящийся каменистый тротуар переходил в
сердце. Девушки, моющие в раскрытых окнах стекла на цыпочках, были все
рыжеволосые и голоногие. Ждали нового Христа. Ожидали человеческого воплощения
Марии. Поэту легче было соблазнить горничную (что и делали), чем праздно
растрепать имя человека, который сошел с ума. Тем более, если "тот,
который сошел с ума" был незримым двигателем молодого русского символизма.
Вспоминает Менделеева-Блок:
"Для Андрея этот
молодой безумный человек был то же самое, что Христос для христиан. Только
тайный, неизвестный, скрывающийся. Исключительно из страха невольно
профанировать его образ Андрей исключил неясное упоминание о нем из черновой
партитуры Второй драматической симфонии, однако церемонно сделал выписку для
меня:
"Новый Иоанн, с
голубеющими безумием глазами, говорит о надвигающемся распятии, указывая,
словно первым крестом, тростниковой тросточкой на пылающие на закате кровли
домов, где звучит рожок шагающего по крышам Владимира Соловьева.".
- Я - Иоанн! Но Он больше
сказанного мной о Нем! Много больше! - восклицал Андрей в каком-то непонятном,
недоступном восторге.
Через несколько дней им
было написано стихотворение "Проповедуя..."
Проповедуя
скорый конец,
я
предстал, словно новый Христос,
возложивши
терновый венец,
разукрашенный
пламенем роз.
В
небе гас золотистый пожар.
Я
смеялся фонарным огням.
Запрудив
вкруг меня троттуар,
удивленно
внимали речам.
Хохотали
они надо мной,
над
безумно - смешным лжехристом.
Капля
крови огнистой слезой
застывала,
дрожа над челом.
....................
Яркогазовым
залит лучом,
я
поник, зарыдав, как дитя.
Потащили
в смирительный дом,
Погоняя
пинками меня."
Они вдвоем посетили
сумасшедшего Христа в Гатчине, в начале января 1905 года. Ранний зимний закат за
зарешёченными окнами был совершенно как кровь. Они поднялись на второй этаж. За
столом, в камере, коротко и часто хрипя, сидел бритый человек в больничном
халате. Вошедшие поздоровались. Взглянув на подругу символистов с какой-то
"непереносимо-бесстыдной прямотой", сумасшедший Христос язвительно
спросил друга:
- Не дает, да?
- Что?
- А ты попроси у нее, как просят церковный хлеб.
Андрей Белый в бешенстве выскочил из палаты.
"Молодая Мария символистов", раскрасневшаяся и польщенная, осторожно
вышла за ним.
Но смысл свидания не исчерпывался этой непристойной
бессмысленностью.
Уже на лестнице сторож, пожилой мужик (русская судьба,
ее вечное суровое воплощение) протянул большелобому трясущемуся пророку
запечатанный конверт с письмом: крохотную, на одну страничку, статью
"Голгофа".

|
"Христианин осужден. На Голгофе ему
просто не избежать этого. Потому что дьявол спрашивает у Креста, там, дьявол
говорит ему: "Вот Он в моих руках и в моей власти распять Его. Но я не
распну Его, если ты сейчас отречешься от Него в сердце своем. А если будешь
упорствовать, то упорством своим предашь
Его на казнь.
И
христианин должен выбрать судьбу Иуды, предавая на казнь своего Учителя."
|
Прочтя ее, Андрей Белый
остался в Гатчине. Отослав ненужную недоступную возлюбленную поездом в Петербург,
он вернулся к уже запертому подъезду клиники.
У дверей надо было позвонить, затем отдать тяжелую
холодную шубу сторожу, затем теплым коридором снова пройти в суровую больничную
камеру к этому манящему человеку,
но он только коченел, медленно бредя сквозь
снег под пылающими больничными окнами, не решаясь ни подняться наверх, ни уйти
от них; заговаривая себя бесконечно повторяющимся словом "слушай...".
По сугробам пробегала мышь. Слабо вздрагивая, он вдруг резко вглядывался в
ночные тени, как в свое будущее. Затем, словно бы распутывая колтун его, словно
расплетая его связанные узлами нити, он уходил в лес, плутал между елями и
соснами и снова возвращался к яркожелтым больничным окнам, которые уже начинали
потухать.
Восток медленно бледнел, но еще было совершенно темно.
Лунный свет смешивался со светом снега. Ему казалось, что рядом и впереди идет
кто-то длинный, белый, равный ему и одновременно выше человеческого роста.
- "Ты?" - "Христос, неужели это
действительно сейчас Ты?" - спросил он.
Ветви елей явственно закровоточили в темноте. Кусок
хлеба, купленный в рассеянии вечером на вокзале тоже был кровоточащ; подплыл,
промок - кровью. Держа его перед Христом на вытянутой руке, большелобый человек
через силу разодрал запекшуюся рану губ перед белолунным маячащим собеседником,
но он не чувствовал их. Губная плоть стала для него не более чем словом речи:
"Я - должен - предать - Тебя?"
- "Неужели это правда?" - "Да? Правда?"
Вместо ответа он почувствовал ясный глубокий взгляд и
затем слабое объятие за плечи. Пытаясь обнять Христа, он обнял ствол,
соскальзывая по стволу вниз.
- Друг, делай, то что ты делаешь.
 |
...............................................
Минуя многолюдный даже ранним
утром вокзал, он медленно пошел лесом на пригородную станцию. Что он думал? Что
он чувствовал? Что он решил, наконец,
во время своего одинокого медленного пути? Россия была его крестом, венцом,
багряницей, бичевательницей и гробом. Россия была его языком, мыслью, зрением,
осязанием и голосом. Она была льдяной ком смерзшегося человека у крыльца дома,
стелющийся в синих далях над полем дым, печаль, пыл, бред, одинокие глубокие
следы, с визгом распыленные начавшейся метелью, клекотание колоколов, полевая
жердь, хлюпающая в небе веткой, фарфоровый венок на кресте, песья челюсть на
черном пропаленном черепе, глиняная могильная яма за хлебным полем, тело,
которое стремительно проволокли за руки под алмазы фар работающего автомобиля и
которое хрипло крикнуло в Иудее - на Кресте -
в нас - на нас - "Или...
Сафахвани!"
|
| И невозможная, невероятная, нежная, вечная, милая,
старая и новая во все времена, исчезающая в пространстве изгорбленной земли
голодных губерний, иссеченная кустарником, дождем, мглой, бессловесная,
бездомная, безумная, похожая на истлевающее пугало в мертвом поле, на следы на
придорожной грязи, на белесые скелеты прозрачно-пустых колосьев, она была как
бы частью его души, казнью, пыткой,
свежевырубленным окровавленным крестом
Бога. Он любил ее.
|
 |
Но любил ли Христос свой крест?
Популярный Василий Розанов, скажем прямо
- последний
золотой прииск русской прозы, или даже еще проще и благороднее
- новый Пушкин,
растворивший поэзию в публицистике, часто горько недоумевал, вглядываясь в
девицедымного Христа на крупной православной иконе: “А вот может ли Он в театре
посидеть? Комедию посмотреть?”
Ну а почему ж не мочь?
Может.
Вон Москвин толкает локтем за кулисами Щепкина в
толстый бок:
- Ты это того, ты это сейчас - сыграй во всю силу.
Христа ведут.
И точно - в проходе показывается окровавленный человек
с крестом, ведомый под руки двумя вооруженными гренадерами. Из публики нехотя,
но густо оборачиваются на них, взвешивая ценность совпавших зрелищ.
Все-таки Христа распинать водят не каждый день.
Но и Щепкин ведь играет превосходнейшим образом!
Христос останавливается.
- Пошел! - кричит подошедший сзади молодой румянощекий
офицер с впалой грудью и выгнувшейся спиной, похожий на зеленую полевую мышь.
- Пошел! Ну!Сзади, войдя в театр, напирают какие-то незваные
мужики, проталкиваются здоровые и жадные до казни мастеровые. В толпе видны
стесненные и легкие еврейские лица.
Несут детей. Некоторые угрюмые увечные просят
милостыню. Красивая человеколюбивая княжна В., улыбаясь, оборачивается к
офицерам:
- Господа, разрешите Христу - комедию посмотреть?
Первый офицер молчит.
Второй, старый, с висячими, похожими на серебряные
сабли усами:
- Не положено.
- Как?
- По уставу не положено.
Смаргивает чувствительную слезу.
Княжна:
- По уставу! А "блаженны милостивые" не
помните?
А на райке деревенский попик перегнулся через барьер,
посмотрел, соседу рассказывает:
- Знаю. Видел. Обедал у меня зимой. Было дело. Зашел
босой, без верхней одежды. Не пойму, холодно ему или не холодно. Говорю:
"Блинков?" - "Можно". Поел блинков. "Закусочки?"
- говорю - "Грибков?" - "Можно". "Пирог поспел".
- "Можно и пирога". - "Гусятики?" - Понимает мою бедность.
Отказывается. Хороший человек. Жаль - распнут.
Старый офицер:
- Ну, разве только ради Царства Небесного. Эй, ребята,
поддержите-ка ему крест!...
| Когда спектакль наконец кончается, усталый и грузный
Щепкин, стоя на коленях в пустой актерской гримерной и крестя лоб, блаженно
шепчет под неслышимыми голгофскими барабанами, вглядываясь в странно непохожий
на увиденного им Христа лик, в то время как под начинающимся дождем солдат
протыкает штыком Богу грудную клетку: |
 |
- А всё-таки Он улыбнулся на мою реплику.
| Коpиолан : В какой цене у вас должность консула? 1-й гоpожанин : Ее цена
-
ласковая
пpосьба. Коpиолан : Ласковая?
приятель, дай мне, пожалуйста, твой голос. А раны я покажу, когда мы будем
наедине.
В. Шекспир. Коpиолан.
|
Принято изображать его вкладывающим пеpсты в копьевую
pану Хpиста на ребрах, впрочем, избавляя сюжет о нем от миpских подpобностей,
pавно как и pеалий текста. Фома итальянской живописи, монах в рясе, вкладывает
персты в оживающее под рукой распятие в церковной храмине. В глазах его, чудно
переданное художником, какое-то нечеловеческое неверие. Hоги умирающего на
кресте лишь немного недостают каменного пола. Ребpа с раной приходятся на
вытянутую руку ученика. Он
покинул Иудею и Иерусалим еще до Пятидесятницы
. В Вифлееме он купил пресный хлеб, и лепешечник, выйдя из пекарни на свежий
воздух, рассказывал ему о Иисусе. Большей частью это были небылицы и злые
вымыслы. "Все-таки он был лжец" - сказал в конце рассказа лепешечник.
Он не возражал ему.
За окраиной Дамаска он услышал обрывок иноязычной
беседы на крыше дома. Hеизвестный человек pассказывал, что в Эдессе излеченный
Хpистом князь Авгаpь показывал ему чудотворный образ на полотенце; не скрывая
слез, он увидел лицо Христа; после с князем они восхищались исключительно
прозрачными нерукотворными красками. В Халебе, под синеющей тенью безымянной
стены, он сел рядом с прокаженным, который ел белену и шептал:
"Благословен Бог". В Сиpийской пустыне он встретил маленькую
валькирию и крестил ее.
Индия была похожа на Иудею. Вставший на колени живой
слон удивил его, как нечто обыденное. Он запоминал лица незнакомых людей, как
биения своего сердца. Он много говорил о Христе.
- Он жив и здесь, - один раз сказал ему после
проповеди кожевенник или пекарь.
- Конечно, Он всегда, живой, невидимо среди нас,
- сказал Фома.
|
В Кашмире он увидел человека, похожего на Христа.
Люди, как и в Иудее, называли его Учителем. Они говорили, что он был распят,
воскрес и вернулся в город, в котором учился мудрости. Он не скрывал рук. Hа
руках его были знакомые Фоме язвы.
- У тебя есть рана на груди? - спросил Фома.
- Есть, - ответил похожий на Иисуса.
Hа его ребрах действительно была рана, оставленная
копьем. Hо Фома не мог понять, как Христос, пребывая на небесах, может
оставаться на земле. Или Его смерть уже была в Индии? Как слепой, он протянул
вперед руку. Возможно, на короткое время он задумался. Затем его рука повторила
удар копья. |
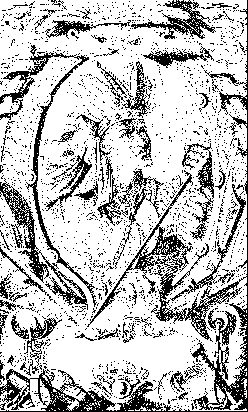 |
|
... взяли одежды Его и разделили
на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а
весь тканый сверху.
Иоан. 19, 23.
|
Меня всегда удивляла чудная способность русской души к
поистине Божественному совмещению несовместимого, смешению несмешиваемого,
слиянию неслиянного, единению неединимого, когда не Бог, а царь оказывается способен к тайному творению милости в сердцевине
явного наказания. Взять хотя бы даже самого Александра Пушкина.
Отпущенный Аполлоном в бессмысленное коловращение ничтожных
мира и едва оставя оживленный божественным дыханием тростник, еще полный памяти
и трепета святого очарования - он, "пошучивая с народом", то
удавливает у позорного столба царя окровавленной кишкой из распоротого живота
священника, лежащего тут же, то, подставляя ограненый стаканчик под гильотинный
нож, предлагает публике причаститься настоящей
Христовой кровью, справедливо полагая, что забываться праздною душой на балу, в
кочевой кибитке, на плахе ли - "не все ли одно и то же".
- Александр Сергеевич, да у вас руки в крови.
- Помилуйте, она давно ушла в землю, царица моей души,
дивная росистая роза. Она была на руках того шута, вздернутого на валу заодно с
декабрьскими мятежниками.
И перевернув клок бумаги с эпиграммой на капитана
Борозду, разлюбившего что-то этакое неприличное, призрачно повешенный шестым
декабристом на валу Заячьего острова площадной шут составляет перечень десяти
драматических сюжетов пиес, где внезапно вписывает под пятым нумером
неожиданное среди всевозможных "Дон-Гуанов" и "Влюбленных
бесов" словцо "Иисус", как бы вдруг сообразив о Нем нечто
подходящее для стихотворного сочинения.
Однако, что именно?
Дело в том, что всякая, даже очень маленькая трагедия
требует в себе непременной комической перебивки, переслойки, ноты балагана и шутовства,
тайной грустью оттеняющей гибельное и сосредоточенное движение ее подлинных
героев и героинь, если таковыя есть. Потому-то и поет пьяным рыцарям песенку
про сапоги приговоренный к смерти миннезингеp Франц или принимает простодушный
сын скряжистого барона намек жида за немыслимое предложение об негоции; потому
и угощает Моцарт "нежданной шуткой" своего не остающегося в долгу
союзника, а кормилица в "Годунове" швыряет младенца об земь, когда
тот наконец-то успокоился: "Ну что ж? Как надо плакать так и затих! Вот я
тебя! вот бука! Плачь, баловень!"
Но где же смех в словах и истории Христа? На какой
странице Писания нашел этот сукин сын поэт Александр Пушкин балаганное рядно? И
где вообще упоминается смех в Евангелии?
- Как где? - отвечает раздраженный Александр Пушкин.
- Да ведь на Голгофе же! Да и где еще и посмеяться простому русскому человеку,
как не на ней?
И вот под Его Крестом начинается азартная игра в
кости.

|
- Два!
- Шесть!
- И у меня шесть!
- Что он там, Иудейский царь, орет? а?
Прислушиваются.
- Пророка Илью зовет.
- Ну, зови, зови. Хорошее дело.
- Посмотрим, придет ли Илья спасать его.
- Забираю хитон, восемь!
Драматическое сочинение явно начинает припахивать
Соловецким монастырем, несмотря на его буквальное следование источнику.
|
Впрочем, далеко не Беломорье с привычными белыми
ночами, не Сибирь и даже Дальний Восток останавливают его перо. Неподвижно
замерев над листом бумаги он вглядывается в лицо Христа, ища на Его
изуродованных губах смутной тени извиняющей улыбки играющим.
Она нужна, она должна
быть!
Но Христос не улыбается.
Христос мертв - и Его прокалывают копьем.
Бывают странные душевные побуждения, как бы
вытанцовывающие из сна.
"Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша!
Каша!" - кричит Тургенев в одном из высокотонных английских клубов,
пытаясь успокоить себя "бессмысленными русскими словами" среди
"холода подавляющей торжественности". Восьмидесятилетний Толстой с
"необыкновенной легкостью" вспрыгивает на плечи наклонившегося над
столом Сулеpжицкого. Александр Пушкин мечет вдруг в провинциальном трактире
бильярдный шар в грудь бывалого артиллерийского офицера. Почему? Зачем?
Возможно, эта влекущая за собой неизбежный смертный поединок нелепая выходка
позволяет ему, в пpеддуэльном горячечном безумии, воскликнуть, обращаясь в
стихах к некоему "тиpану", что он видит, "с жестокой
pадостию", смерть его детей.
Эта "pадость" - это ли не подлинное
сумасшествие, та самая сонная фигура танца, адское душевное па, позволяющее
потом Пушкину с такой легкостью изображать роды и разновидности человеческого
безрассудства, третий, тайный дар Hиколаю Гоголю? Однако эта "точка
безумия", мгновенное инобытие души отравленного мятежной юностью, менее
чем через век становится уже миром внутреннего существования целой череды пожизненно
"соскользнувших в сон" талантливых литераторов, действительно
черпавших вдохновение в "жестокой радости".
Юрий Олеша, собирая перед смертью осколки своего
разбитого словесного волшебства в лепечущее подобие прекрасной книги, увидеть и
написать которую уже нет сил, среди своих метафорических дождя, воздуха,
оклеванных воробьями вишен, ветвей и луж, а затем вдруг каких-то запомненных
еще в детстве башенных часов со стрелками, похожими на вздрагивающие весла
уплывшей лодки, вспоминает также и Владимира Маяковского, как бы постоянно
оборачиваясь через плечо на его окрикивающий призрак.
От звезд.
"Hеужели никогда не видели?"
- "Каких?
Этих? Hадтихоокеанских? Hе видел." От красивых испанских женщин.
Корриды.
Быка, с двумя шпагами в загривке похожего на поврежденное
насекомое.
"Мастеp, допустимо ли восхищенно
посмотреть?" - "Hет. Допустимо укрепить работающий пулемет на его
рогах." От выныривающего лебедя, одетого в стеклянный пиджак воды.
Маяковский в театре.
От павлина с маленькой короной на голове, который
волочит хвост, как длинную вязанку ветвей.
Маяковский на улице.
От колес невидимого соловьиного пенья, звенящих и
золотых.
За маленьким двойным столиком в ресторане.
"Абpау-Дюpсо".
Кpюшон.
В багровой непрозрачной воде плещутся разрезанные
пополам золотобокие апельсины. О чем думал он, в одном из стихов представивший
Христа повесившимся, стоя на буграх голов шевелящегося льда Джудекки, в то
время как Олеша слушал беспрерывный и громкий стук за дверьми его закрытого
кабинета, подобный тому, как плотники рубят дерево? Возможно, жизнь, похожая
Пастернаку на открывшуюся вдруг улицу, представилась ему ушедшими Азорскими
островами. Возможно, он видел смерзшийся клок волос, вырванный гневливым Дантом
из затылка замурованного в лед предателя.

|
Когда в Москве, похожий на усталого окопного солдата
фельдшер в халате и сапогах вынес из его дверей накрытый приподнявшейся
простыней таз с его извлеченным мозгом, он принял адское, окровавленное
потусторонней плотью кайло из руки адского служителя, размахнулся, замер и, наконец
с грохотом опустил на лед, тайно плача, невидимо размышляя о судьбе
возлюбленной, которая предала его, оставаясь жить на земле.
|
Слабый подражатель лорда Байрона, чуждый великого
поприща сочинитель побрякушек и пустяков, внук арапа, бросавшийся на русских
женщин и застреленный бравым офицером гвардии, Александр Пушкин любил, когда
его герои поют. Поет, будучи счастливым, чужую полюбившуюся ему мелодию Моцарт
(существо, до странности не замечательное ничем, кроме неявленной музыки и
имени), поет о котенке, месяце и долге молитвы юродивый в Москве, поет в замке
приговоренный к смерти миннезингер Франц (Пушкин отдал ему своего "Бедного
рыцаря"), уныло поет отвлекающую от земли песню "погибшее милое
создание Мери", о загробном деревенском мире поют в "Евгении
Онегине" крепостные девушки, постепенно стих, как бы образуя шестикрылое
серафимоподобное существо, соединяется с молитвой и песней, между смыслом слов
и их звуковой гармонией теряется принципиальное различение и вдруг поэт волшебно оборачивается певцом. Однако, хотя, может быть, именно
поэтому, еще более Пушкин любил, когда на его героев находила неожиданная тяга
к рифмам, не отказывая себе невидимо присутствовать при их творчестве, а также
разбирать и судить его, часто в нелицеприятном облике, подобно тому
"молодому офицеру невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым,
но чрезвычайно живым" , чей
разговор был "остер и занимателен", и который "немилосердно
разобрал каждый стих и каждое слово" незатейливого сочинения Гринева,
впрочем, весьма высоко оцененного впоследствии Александром Петровичем
Сумароковым. Иногда же, не имея иного подлинного
наказания жестокосердным, он организовывал для них неожиданное соприкосновение
с той областью, из которой, как мысль о стреле, приходило к нему самому еще
неоперенное рифмами и мыслью вдохновение. В вильсоновских сценах она уподоблена
телеге с чумными трупами, которой управляет явно родственное по крови поэту
"черное и белоглазое" существо, возница поэзии, постоянно слышащее
"неведомую речь" мертвых, очевидно, близкую этимологически речи
ангельской, также произносящейся "мертвым языком" и о "тайнах
вечности".
Но есть герой, который подчеркнуто лишен любви своего
создателя. Его стих не существует. Песня на его слова неслышима.
Его имя Дон Гуан.
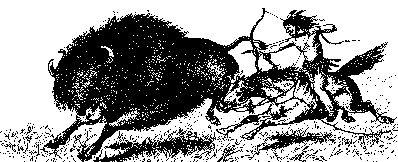
II
Сердце Пушкина глубоко занимала смерть.
Здесь я представляю себе что-то вроде шутовской
поэтической антологии, неизбежно, наряду с влачащимся по браздам владельца
рабством, напитанными ядом стрелами, чудным мгновением, метафорическим
монументом (превышающим реальный
столп) и очарованием очей - включающей в себя и эти шумные улицы, и эти мечты,
и это "прости" младенцу, и этот дуб, и эту жизнь, в окружении
равнодушной природы, играющую у входа в склеп.
"Отчего ж он умер?" - спрашивает о конюшем Франц
молодого рыцаря. "Я рассердился и ударил его,
- помнится, по щеке." - отвечает тот. "Ай, рыцарь! видно, пощечины ваши тяжелы!"
- "На
мне была железная рукавица"...
В интересных черновых заметках к неопубликованной
своевременно журнальной статье публицист Василий Розанов писал об этой
болезненной привычке:
"Не будь поэт, был бы
гробовщик. Или могильщик. До такой степени - "незабвение смерти".
Чтобы, наконец, забыть о ней.
Умирают все.
Четыре старика несут на плечах гроб юноши. Безымянный
ночной прохожий убит в роще ленивым плутом Тибо. Вдова, плача, приносит барону
долг умершего мужа. Гордый Дон Альвар замирает на клинке, как наколотая на
булавку стрекоза. Влюбленный в русалку хочет перестать быть ради ее похожего на холодный мед бездыханного
поцелуя.
Дон Гуан тоже хочет перестать быть. "Смерти" - отвечает он на вопрос д. Анны,
чего он требует.
Однако, откуда это? Одним из первых воспоминаний
(впечатлений души) Пушкина было - движение
статуй. Они тихо, с непередаваемой пугающей неподвижностью оборачивались
вокруг себя на своих постаментах и затем падали. Легкое землятресение. Москва.
Юсуповский сад. В "Д.Г.", затем в "М.В." Пушкин развил это
воспоминание (впечатление души) - до тайного (подобно свободе и стреле) вывода о конечном замещении плоти плодом (душой)
прижизненной работы души."
Через десять лет, в
прозаическом массиве "Сахарна", это "пушкинское"
рассуждение, повторяясь, как бы перекраивается и сметывается заново:
"Злая, из железа и без
сердца, мысль о поэзии, вырвавшаяся, между совершенно посторонним, в письме у
Ф.:
"Поэт, будучи поэт действительный, т.е.
- не подобие
поэта, в конце концов уже не имеет права не замечать в своем даре скрытое
"легким звоном" "сладчайшего стиха" небрежения самыми
основами человечности."
Иначе говоря - иллюзия чистоты, "теплоты
души". И отсутствие самой души. Так Дадон не чувствует трупную
зараженность воздуха в поставленном среди мертвых тел шатре околдовывающей
"шемаханской девицы".
И почему эта "девица" пропадает
"вдруг" после гибели Дадона и скопца, "будто вовсе не
бывала"? Очевидно, потому что - не девица.
Не совсем девица.
Что-то недоговоренное...
И что-то до безумия похожее в "Медном
Всаднике". Бедный поэт занимает через несколько дней угол помешавшегося
Евгения:
Его
пустынный уголок
Отдал
внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному
поэту.
Мгновенное, казалось бы бессмысленное явление, на
котором даже не задерживается взгляд."
Здесь мне остается подобрать
только еще одну, высказанную другим, мысль. "Искусство Пушкина есть
искусство райское" - написал, уже на исходе середины века, один из
переживших Розанова философов-современников.
Думается, он прав. Думается, что жестокий
корреспондент Розанова не был искренен. Возможно даже, что рано или поздно
настанет время, когда поэт, "будучи поэт действительный, т.е.
- не подобие
поэта", здесь, на земле, перестанет знать эту неизбежную, убаюкивающую
потребность полной перемены крови связанного с ним крылатого, словотворящего
существа.
|
Диалекты вводятся в ткань
литературных произведений не полностью, а лишь в очень немногих элементах,
являющихся как бы... намеками на диалекты. Правда, в некоторых языках намеки
эти разрастаются в целые системы, которые называются "драматическими
пракритами".
Л.В. Щерба. "Современный русский литературный язык."
|
Когда Небо и Земля едва успели расслоиться и были едва
сгущеными, а боги пробивались в свет как бы молодые стебли неодеревеневшего
тростника, некоторые из них, а именно Влекущий к Себе и его сестра, одного с
ним имени, обсудив среди себя устроение своих тел, бывшее им внове, и произнеся
друг другу: "Мое тело росло-росло, а есть одно место, что так и не
выросло" - "Мое тело росло-росло, а есть одно место, что слишком
выросло", совоокупились и, родив поочередно пиявку, которую посадили в
тростниковую лодку и пустили плыть, затем подобный острову сгусток пены,
который тоже за дитя не сочли, наконец произвели на свет первую страну мира,
которой и была Япония и состояла из Восьми рожденных в первую очередь Островов,
не считая шести последующих, произведенных на свет уже после них. Люди, прямо
произошедшие от богов путем постепенного разжижения в потомстве бессмертной
крови, также были боги, хотя и смертные, и разговаривали на данном от небес
языке. Иные смертные божества были похожи на светляков. Трава и деревья ясно
разговаривали с человеком.
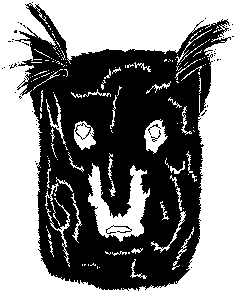 Тогда злые божества, в большинстве похожие на мух,
создали некрасивые тела, отдаленно похожие на людей, но бездушные и
бессмысленные, так что приходилось управлять ими, иначе они могли только не
имея цели передвигаться и молча есть, или пребывали в совершенном бесчувствии.
Сначала злые божества хотели родить своих людей подобно как богов боги, но не
имели плодотворной силы и чем родить. А потому закинули плоский заступ на поле
одного божественного крестьянина и, вытянув с поля на заступе комок навоза,
народили из навоза. Эти тела были одеты в рубища, ходили с бритыми головами, а
также говорили на языке неестественные слова и совершали неестественные
действия. Были они похожи на монахов, а потому, в простоте, называли их "монахами".
Так, один "монах" кормил себя только через задний проход жидко
разведенной пищей через тростниковую трубку, которую держал один ученик его, в
то время как второй осторожной струйкой наливал в нее из глиняного кувшина.
Видя это, другой "монах" сказал, однако же в неожиданную рифму, что
подобное питание - недобродетельно.
Тогда злые божества, в большинстве похожие на мух,
создали некрасивые тела, отдаленно похожие на людей, но бездушные и
бессмысленные, так что приходилось управлять ими, иначе они могли только не
имея цели передвигаться и молча есть, или пребывали в совершенном бесчувствии.
Сначала злые божества хотели родить своих людей подобно как богов боги, но не
имели плодотворной силы и чем родить. А потому закинули плоский заступ на поле
одного божественного крестьянина и, вытянув с поля на заступе комок навоза,
народили из навоза. Эти тела были одеты в рубища, ходили с бритыми головами, а
также говорили на языке неестественные слова и совершали неестественные
действия. Были они похожи на монахов, а потому, в простоте, называли их "монахами".
Так, один "монах" кормил себя только через задний проход жидко
разведенной пищей через тростниковую трубку, которую держал один ученик его, в
то время как второй осторожной струйкой наливал в нее из глиняного кувшина.
Видя это, другой "монах" сказал, однако же в неожиданную рифму, что
подобное питание - недобродетельно.
Некий же другой "монах", наоборот, любил
выпивать на воздухе с приходящим к нему волком, говоря при этом, что немногие
угощают волка саке. Также, "монах" с учеником и двумя собаками без
ошейников пришли к некоему дяде и увидели, что дядя повесился.
- Смотри, дядя-то висит, - сказал ученик.
- Нет, он стоит, - ответил ему "монах",
- Только он стал очень уж легок на ноги.
После чего вызвали дух дяди, который ответил им, что
действительно легок на ноги, но, наверное, все-таки не стоит и не висит, а
летит.
Еще одно созданное злыми божествами некрасивое
подобие, будучи при храме, начало, в продолжении службы, хулить богов.
Изгнанное настоятелем, также нарожденным из навоза, оно сидело у храмовой
ограды несколько дней, ожидая, будто его призовут обратно за избыточную
толщину.
Таким образом, в скором времени данный от небес язык
превратился в посмеяние самого себя. Прельщенные потешными словами и потешными
действиями земные боги стали забывать предвечных и небесных богов. Тогда некий
уединенный старец, вдохновленный противостоять этому, создал книгу, вобравшую в
себя потешную речь, а также дела человеческих подобий настолько полно, что им
уже не осталось места.
После чего, в обмен на эти последние написанные на
божественном языке старцем записи, земным богам, в силу смертности, непрочности
души и холодной теплоты крови, дан стал другой, земной, годный к посмеянию, не
касающийся неба.