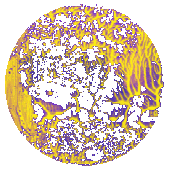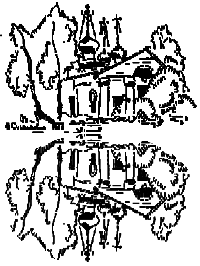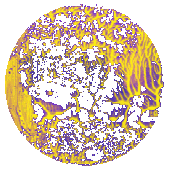 | | Ilya Rudnev "Конец августа, 39'С" |
| | | |
| | | * * * Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unedlich sanft in seinen Handen halt.
R.M.Rilke I Холм обтянут жаром, как платьем;
из будки доносятся звуки радио.
Ржаво-зеленый колосс,
обвитый ветвями стального вьюна,
заслоняют красно-белый экран вина
и волнами помехи твоих волос. Угол тени движет бесшумно;
небо отдает искусственным перламутром.
День
до отвращения светел;
Истошно скушно смотреть в газеты.
Флюгер потухшей сигареты
серым пеплом указывает на ветер. II У каждого находятся свои изъяны
(и иисус произошел от обезьяны).
Темнота в глазах после гудков отбоя;
Собственная слепота становится ясной только
после выдавленных из себя наподобие гноя
полуслов прощания. И нерв ехидно танцует польку. III :как прощание уходит - приходит Яблочный Спас,
листьев ладони венозные в небо стучатся. Для нас
это шесть лет,
шесть длинных слов, если назад поглядеть
кончилась жизнь, прошла, пригибаясь, и смерть.
Полдень. Или это всего лишь обед? Август 96 |
| | | |
 | | Армейские записки (вольные). I Когда в темени глуше становишься,
дым от тела, клубясь, отделится,
и все мысли утонут в омуте,
растворятся; останутся только те,
для которых солнце вечером
сквозь горизонт угольком просвечивает.
И как пол с потолком смерзается,
маски, лица и крылья с лестницы;
с дегтем мед по окну стекает вверх,
наугад, не касаясь, не видя вех,
чьи-то губы тебе улыбаются. II Поток машин под утренним незагорелым небом,
вытягивая из-за пазухи рассвет,
захлебываясь кислым дымом, между делом,
взошедшим солнцем получает в дых.
И непроизносимый умлаут чьих-то глаз
скользит по этим строчкам, лязгая на стыках запятых,
как поезд по сизо-красным каренинским,
местами свежевымазанным рельсам. Октябрь 96 |
| | | |
| | | Памяти И.Бродского I Птичка, судорогой пальца выпущенная из хрусталя,
исключая все, помимо краски,
сокращает твой образ - от "а" до "я" -
до кусочка картона. Наспех
собравшись - под утро разбужен
двадцать восьмого новой слепящей стужи,
Харон в гондоле колет январский лед. Рождество бреет редкую щетину елей,
сдобрив землю мыльною пеной снега;
Город страдает людьми, и (здесь) вере,
кроме огней и чада, нужны где-то
услышанный картавый голос; ступени
трущий шаг поднимающихся на Сан-Мекеле
и северные облака, сбиваемые ветром влет. Id est это то, что мы называем смертью;
кольми как прямую речь опережает эхо
подснежной, уже зазеркальной вестью
ломаной тропочкой свежегазетных строк.
Стук дождя сквозь окно отдается в темени
шрифтом свинцовым пишмашинки времени
и время, вслед за часами, врет. II Но не молчит. Сегодня веком,
пословно двигаясь под откос,
нервное кружево русской речи -
тонкий скулеж под дверьми о неком
плеске, что кончает набором костей и кос -
сводит горло при первой встрече с западной окраиной языка; где
кружа в беспадежье меж корками словаря,
устремленное в слово одиночество гефсимани
от фонтана к фонтану, мимо звезд, на воде
оставляет не волны, но морщины и строки, творя
авторучкой время того, чье тело лежит под дверями. Январь 97, Назарет. |
| | | |
 | | Конец августа, 39¦ С ":маятники глаз, дуя в век опущеных пролом,
закрывает черною повязкой ветер,
выметая все, о чем я бредил -
это в небе ночь взмахнула топором:" Спасаясь от жарких дневных химер,
солнце ныряет на запад, воя.
Свернувшись змеей от вчерашнего зноя,
время укладывается в беличье два-пи-эр. Далече до дышачего моря, но днесь
так припекало, что там и на дне
льда не осталось. Занеже мне
слишком жарко и слишком здесь в серой слепой всепалящей мгле
так, что горячее, липкое, красное
стынет на белом - оно же напрасное
и буквы корежит в огне. Углекислотой придушило все звуки
в солнцем дождливый день. И
безнадежно онемел в пыли
телефон окончательно бывшей подруги. Август 96 |
| | | |
| | | * * * Из степи - в стены - осенью. Дождем
омытые витрины с их павлиньим блеском
от поворота стрелки часовой ни в чем
не проиграли, став отрезком бетона, пустоглазья, честного, как снег,
дверей и ржавчины, намыленной посуды
и треском нервным скверных сигарет.
Давя отстатки кашля в кулаке, простуда отступает, сдав мозги на милость
скрипу, чей эпицентр в груди - прибоем -
немного выше вдруг разводит сырость.
Здесь не желают спокойной ночи, отчего и сны пузырятся в бедной голове,
теперь уже не стриженой, но бритой -
и волос оставался бы на ней -
к утру, боюсь, и тот стоял бы дыбом. Ноябрь 97 |
| | | |
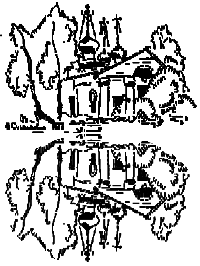 | | Господь покидает город. A meaning moment into an eternal fact :
W.H.Auden I В незнакомых улицах движешься наугад. Выходя из ворот, стирая подошвы о тротуар,
оставив у нищих горсть потемневшей меди,
попадаешь из города во вновь обретенный ад, -
кривое отражение штатов, знойный оскал,
в сусальном полушарии мечети. Простись со своим утерянным Иерусалимом. Выходя из ворот, морщась от сальной гари,
погляди, как город из вечного стал мгновенным:
от общественных трупов, обернувшихся дымом,
от опухолей пробок, до телеграмм, что тебе посылали
не систолой и хрустом пальцев, но бульканьем интернета. II Выходи и шагай на восток, на юг и на север,
к не тобой обещанному, но твоему серебру,
под благовест, хлещущий в перегретых стенах,
под стоны, вызывающие ли кариес, комкающие ли простыню. Перебирая слова, которых, видимо, было не мало,
иди, разматывая свой клубок -
от безлетного гекзаметра океана
до кильки перистых облаков. Май 98 |
| | | |
| | | Из Инбаль Перламутр (с иврита) - Шипы Страха. Страха шипы пронзают ночь.
Говорят, это свет дальних звезд;
Небо пробито страхом насквозь,
И луна - как рана по самую кость. Утром же свет приходит в себя,
Но возвращается тот же кошмар:
Видишь ты, без завесы сна
Раны солнца ржавый пожар. Бритва отжитых дней нарежет морщин,
Страх зажжет вновь свои фонари.
Только падает тень на разорванный день -
Это страх рвет меня изнутри. |
| | | |
 | | Поэзия - пума. "А вы знаете, что у алжирского бея под самым
носом шишка? Под самым носом:"
Н.В. Гоголь "Когда ты идешь к женщине, бери с собой плеть,-
сказала ему старушка. Так говорил Заратустра."
Ф. Ницше I Поэзия - пума в черном манто
с подвешенной под плечами грудью,
и то, как она не лукавит со жмудью,
и то,
как жмудь зажмуривается в чумах,
доказывает: поэзия - пума.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II А я сказал корабельному бою,
что океан - это мой напиток.
Бедняга бежал напрямик до сбоя,
а после у борта лежал, недобиток.
Океан хрипел как нельзя некстати.
Его душа растворилась в планктоне.
Мы с ним единомолочные братья,
но только он старший: сильней, многотонней. Бежала листва по стволам; и хвоя,
и мех: то волки, наверно, живые,
на бесконечность отставши от воя,
а вои вытягивали выи.
Бег - это всякой работе присуще:
бою в работе, зверью на пожаре,
кого замесили на глиняной гуще
и, дабы испечь, над теплом продержали. Ну вот, и холод теплом расколот
на Севере повсеместно диком.
Веснянка-влага течет за ворот.
Живи, живое! Пред этим мигом
замру зверьком. Океан-собрат
утешит тихих священной пляской.
Земля разгонится и коляской
под трайлер выкатится на тракт. III Поэзия - пума. А Дева и Вега
уже не понятия или вещи,
но, говоря языком человечьим,
всего лишь странной синкопы нега.
Господь, который четыре буквы
сложил в Себя и построил рядом,
играет в розовые куклы,
из называя нежно АДАМ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поэзия - пума в черном манто.
Но это прошло. На самом деле
я знаю кожу твою на теле,
я знаю кожу твою на деле,
я знаю кожу твою недели,
и это и только это - то. Октябрь 99 |
| | | |
 | | * * * В.С., с признательностью. Где снег - там сон. Снега первоначально
являются прекрасно и печально.
И хочется сказать всему: "Прости",
внимать лишь вьюге, верить вихрям только. Мелькнет над кровлей крохотная долька
мигающего млечного пути.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В германской тьме и в датской тесноте
поверх голов и щелеватых улиц,
незамечаемый прохожими нигде,
летит возок с упряжкой белых куриц. Святая Дева приказала буре:"Уймись"!
Открылись взорам города в огнях ,
и в фейерверках карнавала,
на миг прервавшегося. Дальше - тьма. А выше тьмы - туманные овалы
вершин угаданных, подъемы и провалы,
и важное: там звезды в торжестве
о веющем над ними Рождестве. Декабрь 99. |
| | | |
| | | * * * Никого не чаю. Никого не жду.
Не пора ль поштучно выходить к дождю, нацепляясь глазом на горы вихор:
это черный ворон мельтешит, не вор. Не пора ль, руками обхватив виски,
наплести лекарства от дурной тоски, - наплести веревок, да из этих струй,
что развесил облачный обалдуй. Это я тут мокну, потому что глуп,
а не васькин остров, прилежащий труп. Просыхает небо, и еще разок,
отряжает солнце для сенца возок. Вьется ворон тот же, несомненный тать.
Мне бы, пьяной роже, на копыта встать - не пора ли парню. Не лежи, дурак,
покажи им хавку. Покажи кулак. Октябрь 99. |
| | | |
| | | За апрель 1999. "Жизнь мою, что впереди,
на перекрученной нити
с теплым крестом на груди,
хочется - нате, берите." Рисовальщик стихов и иных
черно-белых пейзажей,
не собравший за зиму литер даже
на хрустящий вечером тонкий наст,
по больному виску отыскавши север,
глаза поднимаю на иконостас. Ни ржаных волос, ни венков из мирта.
Для живущих за окнами мало смыла -
залежалось в тепле, давно прокисло,
да и как не прокиснуть у меня в горсти.
:На часах - без пяти лишних литров
замкнутого, исхоженого пути. Вот трава и вода. Обещания дао едва
ли отдавались иными устами.
Мне нетрудно уйти, закатав рукава,
наследив на бумажной голгофе.
Вот исписаный лист. Я молчу и тянусь
За остатками страшного черного кофе. |
| | | |
| | | Декабрь. Alexandrow и Orangeboom. Зима завтра. Падет снег
с заимствованной у заполярья
или у мнимознакомой рапсодии
медлительностью. Где нет рек,
там есть водопроводы, и кому-то надо,
как несчастной и незамужней Кларе или Лене,
мерзнуть и хлопотатьо пособии. Снег, ты чуждых богов чадо!
Снег молением-заклинанием
зову,
уже удерживаясь дыханием,
но еще, кажется,
(не окажется)
на плаву. 31 декабря 99. |
| | | |
 | | * * * ":und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen,
wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird:"
H. Heine "And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evenig rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust."
T.S. Eliot Милой кириллицей прикрывая срам
листа - бледной северной чистоты,
я меняю пряничный храм
на моление у ключа. Кусты - в шевелении утра. Сестру-зарю
не вижу, она с другой стороны
ельником заросшей горы. Говорю
"Господь!" - бессловесно. И как бороны зубья зыбь колеблят,- слог
колышет, обозначая, куст,
и даже подпрыгивает стог,
услыша "можно" Твоих уст. Указуя словом саму смерть,
я - жив и шагаю бычком, пока
не упал. Она - живого средь -
покалывает копьем бока, чтоб помнилось, что она - не нуля
раздутое до кружка ничто.
Неживое - это зима, земля,
а если цифирью - из ста сто. И поэтому "научи!" мычу,
как в синкопах систол узнавать твой след,
как зажигать по себе свечу
за час, а не за десяток лет, как Богу вязки моей нить
вручать одним шевелением губ,
и, наконец, как смыть
с тела пыль города Пепелбург. 13 февраля 2000. |