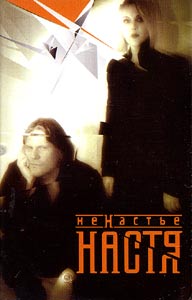 "Мы
что-то забыли
"Мы
что-то забылидалеко в туманном прошлом..."
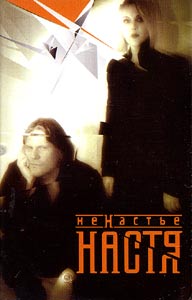 "Мы
что-то забыли
"Мы
что-то забылиЗа последние годы широкой публике представились два случая познакомиться с Настей Полевой. Первый - это сборник группы "Настя", вошедший в третью серию "Легенд русского рока" в одном ряду со сборниками "Аквариума", СашБаша и "Агаты Кристи" и как бы подведший черту под ее (группы) корпусом классических сочинений. Второй - это пролетевший по всем радиостанциям "Ветер" из акустического "Гербария"; именно по нему ("...писала сказочный роман, а вышел сбивчивый рассказ...") Настю припоминают минимально осведомленные.
Ахронологический принцип, положенный в основу "Легенд" и "Гербария", сыграл с группой недобрую шутку. Потребителю досталась Настя, усредненная за пятнадцать лет - приятный женский вокал и сказочный роман ни о чем. Ценители отметили снижение качества текстов к "Морю Сиам" и удивились, "почему так много ремейков". За кадром осталась динамика, поворот мировоззрения от альбома к альбому - возможно, именно в этом причина недооцененности или, лучше сказать, незамеченности "Ненастья".
Место "Ненастья" в ряду работ Полевой легко обнаружить, диахронически сравнив альбомы свердловского (до "Невесты" включительно) и петербуржского (начиная с "Танца на цыпочках") периодов. В "Тацу" она перепевает сюжеты греческой мифологии и современной восточной экзотики; в "Танце..." она исполняет кавер-версии песен "павших и живых" героев рок-н-ролла. В "Ноа-ноа" и "Море Сиам" ролевая игра уходит на второй план, уступая место хотя и наивной, но лирике в собственном смысле - на один голос и от первого лица. В конечном счете, эта лирика оказывается пробой пера к третьему, программному альбому, в котором мироотношение предельно четко фокусируется в мировоззрение.
Отметим на полях: тексты свердловского периода принадлежат Илье и Евгению Кормильцевым. Тексты петербуржского периода написаны Настей самостоятельно. Для простоты мы заранее исключим из рассмотрения "Снежных волков" и "Факультет естественной любви" Вячеслава Бутусова, как должны были бы пропустить его "Русский рок" в альбоме "Крылья": очень уж они все мимо темы.
Основной сюжет "Насти" первого призыва - путешествие в мир и по миру фантазий. Этот мир вводится как легенда, сон, игра, но всегда как подарок - иногда от особого момента ("вечер", "закат"), иногда от романтического спутника ("герой", "Том Сойер"); дарительницей (например, в "Вечере стекла") может выступать и сама лирическая героиня. "Просто была небом дана, помни, что мне воздух цена". Подарка остается только дождаться: время играет на стороне героев, расставляет все по местам ("Всему свое время"), подводит их к "закату" и "плеску весла", "идет по кругу", скрывая жениха и невесту от всего остального мира.
Словом, распространенный и очевидный набор мифологем - то самое соединение эроса и танатоса, на котором от Генриха Гейне стоит романтическая любовная лирика. Остановись на нем Полева, и "экологическая ниша" была бы обеспечена ей до скончания творческой биографии.
Тем интересней проследить, как - и попробовать предположить, почему - Настя планомерно рвала с ним на протяжении шести лет (1991 - 1997 - если считать от песни "Серые розы", выброшенной из "Невесты" за несоответствие концепции альбома).
Начиная с "Танца на цыпочках" (песни) в текстах Насти меняется роль образа: поток образов перестает самостоятельно структурировать текст. "Фея Фантаста" становится художником-иллюстратором у созерцания и размышления. (Забегая вперед, поставим галочку на полях "Войн": слово как воплощенная - точнее, оживленная - идея.)
В "Танце на цыпочках" (альбоме, 1994) Настя дает вторую жизнь (а если учитывать степень известности "Апрельского марша" за пределами Екатеринбурга - то, по большому счету, и первую) песне 1987 года "Голоса":
Под вечер, как магнит, укроет
нас водоем.
Мы над водой сидим и в эту
воду плюем.
И вот уже темно, и мы с тобою
вдвоем,
И говорим о том, чего боимся
и ждем.
...Наш водоем темней всех
рек, озер и морей:
Где правят голоса, бывает
мало людей.
Наш тихий разговор понять
поможет быстрей,
Что сотворили мы с короткой
жизнью своей.
Здесь достаточно давний для русской литературы сюжет о бегстве, обособлении и гибели обособленной пары ("Леди Макбет Мценского уезда", "Мила и Нолли" Николая Вагнера, "Мастер и Маргарита") почти приходит к закономерному завершению. Окончательное завершение (в обрамлении зимнего леса после осеннего "темного водоема") он получит в том же 1994 году у "Агаты Кристи":
Мы вышли из игры, мы
смертельно ранены.
Спи - я твой
Pere Noel, а ты моя Снегурочка, дурочка...
Нас завтра подберут или не
найдут совсем.
Нас к маршалу внесут на одном
большом щите.
Да, возможно,
pourquois pas, мы войдем в историю.
Твой и мой фотопортрет впишут
в хрестоматию, мать ее...
А по лесам бродят санитары, они нас будут подбирать. ("Новый год")
У "Агаты" недомолвки окончательно раскрыты. "Санитары леса" и есть прячущиеся до поры "голоса"; они же, если продолжать регрессию - Воланд и его свита.
Стержень лирики свердловского периода - миф счастливого уединения - сломан (почти "границы ключ переломлен пополам"). Что дальше?
Меняется парадигма приобретения. Не в том смысле, что подарков больше не будет, - просто ради подлинно важного придется всерьез потрудиться. "Даром греет солнце, одевая мир" - это уже почти слог Иоанна Кронштадтского. Но "даром не дается радости без слез". "Даром не скрутить судьбу тугим узлом". "Даром не настигнет цель стрела".
Меняется парадигма времени.
Время не только перестает быть источником чуда, но уже и не расставляет все по местам, как в песне на два голоса из несостоявшегося фильма. "Снова, снова пойду по кругу" - это уже не "лихорадка, больная весна" "Невесты": "хоровод кружился, а король не пел". Лирическое время "Моря Сиам" (и отчасти "Танца...") - уже не "закат", а "Конец года": условная дата, праздник условно-обязательных надежд, нелепых суеверий и бессмысленного потребления.
Окончен год, окончен год.
Прощальным гимном наперед
Пробьют часы двенадцать раз -
И все про нас.
Окончен год, окончен год.
Окончен год, окончен год.
С тобой, с тобой иду домой -
Труби отбой.
Основной задачей времени становится разрушение настоящего - через превращение его в прошлое и разрушение связей с прошлым. Если время и лечит, то лишь одним способом - принося забвение. "День рожденья - еще один условный праздник - отметишь, год не заметишь, в памяти след не найдешь..."
В "Ненастье" время будет обвинено открытым текстом; в "Море Сиам" его течение лишь вызывает тоску и смутное беспокойство. Во "Сне наяву" это беспокойство рисует на грани кругозора силуэты черных всадников - войны и еще каких-то перемен, еще более страшных, чем война; но тот же самый поток, что несет макромир к катастрофе - река тления, река непостоянства, "река желаний" - размягчает человеческий материал изнутри.
Ждут, ждут, ждут...
Не жеста резкого,
Не стального блеска в глазах,
Не устава, не слова веского,
На ножах, на ножах...
И, конечно, не твёрдой
поступи,
Отдаляющей наверняка...
Распутывая "Ненастье", мы постараемся выдержать параллельность между индивидуальным и макроисторическим смыслами - или, как говорят толкователи священных текстов, между смыслами "душевным" и "духовным".
Нам будет удобно понимать "Море Сиам" не только как черновик, но и как словарь-справочник к "Ненастью", а само "Ненастье" - как развернутое пошаговое изложение непонятного без него "Сна наяву".
О времени мы уже сказали много, поэтому скажем главное.
Если мир сотворен "из ничего", то и время течет "из ничего". Нейтринные телескопы и адронные коллайдеры, посланные человечеством на штурм космологического прошлого, обречены смотреть в него мимо подлинной Первопричины. Возводящий время в абсолют на самом деле возводит в абсолют небытие.
У этой философии (точнее, у целого семейства таких философий) есть специальное название - нигилизм.
Теория и история нигилизма подробно рассмотрены у преподобного Серафима (Роуза) в посмертно изданном трактате "Человек против Бога", и, перебирая вслед за о. Серафимом "ступени нигилистической диалектики", легко убедиться, что все надежды нигилиста так или иначе связаны со временем: или с "жизнью настоящим", или с верой в "новое" и "прогресс".
Настроение "Ненастья" приблизительно соответствует описанному в пятой главе "Человека против Бога" - "За нигилизмом": это ожидание нового века, "рассвета" после "ночи" мировых войн.
Войны идут, идут - этот мир
невезучий.
Сила взрывается злом в
непокорном огне.
Просто усвоить, что жизнь,
как и смерть - это случай,
Подаренный свыше случай
однажды и мне.
Люди идут; чем порадуют тех,
кого встретят?
Люди несут на плечах грех -
шипы из свинца.
Холод, луна висит, звезды
ярче не светят.
Под ногами дорога - дороге не
видно конца.
Тема "нигилизма разрушения" (не только практического, но и теоретического: "жизнь, как и смерть, - это случай") может показаться новой для той "Насти" (группы), которой посвящен сборник "Легенды русского рока"; однако это основная тема работ "Трека", где Полева солировала до 1984 года и "музыканты которого воспринимали мир как череду бессмысленных разрушительных действий, повторявшихся непрерывными кольцами одно за одним" (Александр Кушнир). Музыкальный и интонационный строй "Войн" действительно очень напоминает "Трек"; что до философской подкладки, то мы вернемся к ней несколько дальше.
Заметим лишь, что "сила, взрывающаяся злом в непокорном огне" - это еще не та катастрофа, которую во "Сне наяву" углядели "сонные феи". Глаголы в "Войнах" стоят в настоящем времени, и притом, судя по обобщениям, не в "настоящем-сейчас" (Present Continuous), а в "настоящем-всегда" (Indefinite). Мир "Войн" - это вполне современный мир, знакомый, во всяком случае, по теленовостям и в какой-то степени даже обыденный.
Начало "У нас нет песни" напоминает "Сказку с несчастливым концом" Цоя: "У нас граница - облака", - почти "стена из кирпичей облаков"; "у нас есть солнце - и мороз; надежда есть - и есть прогноз". "Все на месте, да что-то не так", - напрашивается продолжение из "Черного альбома", но у Насти последовательность состояний строго обратна: сначала "ночь, за ней гроза", потом "что-то не так". "Ненастье" Полевой, "лето суровей зимы" наступает после грозы. В послевоенном мире "утеряно важное что-то", скреплявшее довоенный и придававшее ему смысл:
Мы что-то забыли далеко в
туманном прошлом,
Как будто не жили день за
днем.
Куда-то уплыли берега, плоты
и весла,
По ветру пустились,
И все себе бы шло, но нету
подходящей песни...
Это "что-то" названо Настей пятью годами раньше - во "Сне наяву":
Эхо забытой вины.
Итак, забыта вина, и с первой же строчки "Сна" понятно, чья именно: вина Евы, причина изгнания человечества из рая. Именно для того, чтобы окончательно забыть о ней, "Ева уходит на юг", где "поляны в цвету" и "залиты солнцем моря"; и именно этот побег, будто бы увенчиваясь успехом, оборачивается ненастьем.
О тоске по "подходящей песне" (критику регулярно хочется оговориться: "настоящей" - но у Насти именно "подходящей") можно смело сказать то же самое, что Роуз в "Философии абсурда" говорит об "ожидании Годо" в пьесе Беккета: "Новый бог вынужден представляться в виде духовного торговца, товар которого можно принять или отвергнуть. Сегодня люди "ждут Годо", Антихриста, от которого они ожидают, что он сможет насытить ум и вернуть смысл и радость самопоклонению". Спрос предъявлен на "песню сладких грез", "песенку для сна" - но не на истину.
Здесь мы подходим к теме, освещенной у Роуза сравнительно мельком.
"Экстремальные испытания помогают отличить истинные ценности от ложных", - одно из самых давних и почтенных убеждений человечества. "Придут варвары, и пустая философия не даст ему утешения", - говорит монах-пустынник у Гессе. "Парня в горы тяни, рискни". "Не бывает атеистов в окопах под огнем".
Зато "бывает" опасность, рядом с которой убежденный атеизм - еще, по выражению Александра Каломироса, "благословенное явление для нашей эпохи".
Всем богам
Помолишься ты, всем богам
Помолишься ты сразу,
Когда увидишь небо перед
собой,
И где бы ни был [в
оригинале, разумеется, "не был", но критику трудно вынести такое насилие над
грамматикой, если только это не скрытая цитата из
"Войны" Цоя] -
Одно лишь небо,
Одно чужое небо над головой.
Может быть, еще раньше, чем "Войну" Цоя, здесь уместно вспомнить знакомый каждому школьнику эпизод из "Войны и мира" - душевный перелом князя Андрея, лежащего раненым на поле Аустерлица: "Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец".
Для персонажа "Войн" небо - чужое. Оно преследует. От него нельзя убежать и можно только загородиться - или думать, что загородился.
Персонаж "Войн" загораживается от истины неба безразличием.
Религия всегда подразумевала выбор, не менее определенный, чем - подберем аналогию, особенно понятную в контексте лирики Насти и вообще "уральского рока" - выбор любимого человека. Можно предпочесть одного другому, но нельзя выбрать всех сразу. Теперь все анонимные бесчисленные "боги" оказываются одинаково хороши - для того, чтобы закрыть перед ними дверь.
И уже не небо, а "земля на щеке заставит вспомнить отца" - или "Отца"? - неважно. Поздно. "Слово кричит в пустоту, а уши не слышат... Слово не поймано".
"Рабочая река" дает нам еще один образ времени: "прогресса", "поступательного хода истории". Здесь и культ труда, чем-то перекликающийся с официальной советской эстетикой - "блестит тяжелое весло стальное..." (почти "девушка с веслом"), "и ты работаешь пока"; и, хотя и не так явно, мотив соревнования, конкуренции, естественного отбора - "к океану (т.е. к некоему безбрежному будущему) ты сестру ревнуешь, если имя той он помянул".
От сказочности "Вниз по течению неба" не осталось и следа.
"Какова природа веры и надежды, воодушевляющих подобные мечты?" - спрашивает о. Серафим в статье "За нигилизмом". Мы спросим иначе: все ли безоблачно на берегах безымянной "рабочей реки"?
"Высмотрю в воде я облака..."
И сразу же:
"Брошу весла и легко вздохну
я -
Ты неси, неси меня сама..."
Снова вспомним альбом "Море Сиам": "Даром не рассечь волну сухим веслом". Какая же цена заплачена "рабочей реке"?
Здесь критик, ссылаясь на нобелевскую речь Ясунари Кавабаты, позволит себе, как когда-то в одиннадцатом классе, рассказать стихотворение по собственному выбору. Оно написано в год выхода "Моря Сиам" и принадлежит современнице Полевой московской студентке Светлане Гиренко, умершей осенью 2001 года от отравления.
И не было столетий до...
Не будет, вероятно, после.
Кому-то слышно под водой,
Что я устал и бросил весла,
Что я отказываюсь плыть
По воле, как по чьей-то боли
<...> [полный текст]
Безразличие, о котором мы говорили в связи с "Войнами", называется на языке аскетики "нечувствием"; это предпоследнее, по Игнатию Брянчанинову, проявление страсти уныния. Последнее называется "отчаянием".
Страсть уныния стоит среди страстей особняком. Она не связана ни с желанием, ни с боязнью, ни с неприятием чего-либо; это в чистом виде паралич воли, пассивное неверие в том, что твое хотение может что-то изменить. Отчаяние - это тот шаг, жест, когда пассивное неверие становится активным.
"Не было... до".
"Не будет... после".
"Ты неси, неси меня сама".
В определенном смысле "столетий после" действительно может не быть.
Песня "Опоздала луна" дает ответ на вопрос, заданный пятью минутами раньше: кто принесет ожидаемую отчаявшимся человечеством "подходящую песню".
Рано утром еду я домой,
Вижу за окном небывалое:
Слева - солнце светит надо
мной,
Справа - тоже круг: солнце
новое.
Но уйти опоздала луна
И солнцем стала на минуту.
Опоздала луна,
Устроила на небе смуту.
Язык песни вполне святоотеческий вплоть до направлений "право-лево", даже как-то неудобно переводить. (Контрольный расчет: если восходящее солнце, в отличие от опоздавшей луны, находится справа, то автобус/троллейбус/трамвай, в котором находится Настя, едет на север, т.е. "домой" - это направление, противоположное югу "Сна наяву".) "Луна", светящая отраженным светом, но выдающая себя за солнце - тот самый человек (образ и отражение Бога), которому человечество поклонится, как настоящему Богу. После Достоевского о нем принято говорить "человекобог", в отличие от аутентичного Богочеловека. (Будь критик профессиональным конспирологом, он непременно вспомнил бы, что с луной святые отцы сравнивают Ветхий Завет; ну, да ладно.)
Но мы договорились искать не только "духовный", но и "душевный" смысл. В "душевном", персональном смысле "опоздавшая луна" - это все, что может быть, и полезно, и "детоводительствует" к окончательной истине, но претендует на равную ей важность - то, о чем Льюис (Клайв Стейплс) сказал "Christianity And..." За примерами далеко ходить не надо: у кого-то опоздавшей луной в шкафу оказывается устроенная семья, у иного - "всемирная справедливость", у иного - "русская идея".
Странная и глупая луна -
Захотела вдруг солнце
потеснить.
Ночь прекрасная тебе дана,
Звездами мигать, в сумраке
светить.
(Заметим на полях, что попутчики лирической героини "все устали, спят". Для того, чтобы "распознать фальшивое солнце" (Ольга Лехтонен), правильного выбора автобуса, бывает, оказывается недостаточно.)
"Большой огонь" и "Иду себе" по-разному передают ужас человека, оставшегося с фальшивым солнцем один на один. "Большой огонь" - ужас, охватывающий в короткие минуты просветления: "Сердца дом - вечный огонь полыхает в нем. Справлюсь ли с ним?". "Иду себе" - неотступно преследующее беспокойство, "голос бездны, развертывающейся в сердце" (Роуз), который не заглушить ни бодростью шага, ни ностальгическими воспоминаниями, ни азбучными знаниями, затверженными в школе.
Иду я, шаг за шагом,
навстречу - неизвестность,
Я знаю север - юг, полярную
звезду.
И, кажется, заочно определима
местность -
Надеюсь, не запутаюсь,
тропинку найду.
Когда мне хорошо, других не
замечаю,
Окутает туманом ничью печаль
- беду.
Я медленно спрошу, и кто-то
отвечает:
"Пока не вышло время, играй в
свою дуду!"
Я слушаю, как бьется мое
сердце,
Мне нравится смеяться и
любить -
Желания распахнутая дверца
Пока открыта, буду жить.
Я вспоминаю разное из детства
-
Там было все, но я не помню
страх:
Шумели и гуляли по соседству
На всех пирах, во всех
дворах...
Еще один облик времени, еще один предмет беспомощной надежды: опыт, дорогое прошлое. Великое прошлое народа. Милое прошлое детства. Еще одна иллюзия.
Кино в движении сотню лет. И
сбоя нет -
Немой в пути обрел реальный
цвет и голос.
Кино - сюжет, вопрос - ответ,
сомнений нет:
Мир на экране кажется нам
интересней.
Лишь тени и стена,
Луч и два окна. ["Кино"]
На память приходит пещера с тенями у Платона. "Тень - истина". "Тень истины" или "лишь тень истинна"? С одной стороны - тень "великого немого" нигилизма, превращающего реальность в фабрику иллюзий. С другой - сама реальность как игровая площадка, тренировочный зал: "Представление, урок, учитесь жить!"
Нам снова придется домножить вектор из "Ненастья" на матрицу из "Моря Сиам". "Широта души и стать большого тела" еще как-то сойдут за олимпийские добродетели. Сойдут ли за них "умение драться, желание взяться" из "Встречай себя завтра"?
Я демонстрирую свои ноги.
Ты демонстрируешь свои мышцы.
Я демонстрирую движение
тела...
Я нанесу засечку на шест,
Шест молодости, шест
молодости.
С его помощью мы прыгнем
вниз,
В настоящую большую жизнь.
Итак, "в настоящую большую жизнь" - это "вниз". Те же посюсторонние надежды на человеческие качества, та же "опоздавшая луна".
И выход из пещеры только один.
Критик должен признать, что до последнего момента колебался, кому посвящена последняя песня. Ищущим "чудес и знамений"? Но то, что "лирический адресат" находит в небе, слишком мало напоминает "чудеса и знамения": не склад радостных неожиданностей, а знаки вечности и постоянства - для тех, кого в этом гибнущем мире еще интересуют вечность и постоянство.
...Облака не упадут,
радуга - дуга не разогнется,
жди, не жди,
журавлей не повернуть -
клин упрямый прямо,
прямо следует на юг,
замыкая бесконечный круг.
Следи за небом.
Следи за небом.
Давай.
Давай,
смотри на небо в оба, когда
зима, когда сугробы, когда
вода лишь под ногами, когда
лишь потолки над нами - там
все
в движении без цели. Там все
едино - дни, недели. Там все
устроено для смелых. Там все
для крыльев, сильных, белых -
там все...
"...Вечер был ясный и звездный. О. Серафим, в белой фелони, подошел к подножию креста и подал знак задуть свечи. Минуту он стоял неповижно, глядя на темную балку и звездное небо; потом начал говорить:
"Когда мы смотрим на мир, на Божие создание во всем его величии, мы улавливаем в нем некий отблеск, пусть неяркий и смутный, но все же отблеск великолепия того вечного Царства, для когорого все мы и были созданы. Давайте не забывать, что небо -- наш дом; давайте отряхнем, отбросим прочь все пустые, мелкие пристрастия и хлопоты, которыя притягивают нас к земле, к падшему земному миру, заслоняют от нас цель нашей жизни. Как легко потерять из виду эту цель!.. Последние времена уже настали; на наших глазах мир готовится принять Антихриста. Как мы верим, как любим Бога - все подвергнется неслыханным испытаниям. Придется уходить в пустыню, вот в такие места, как здесь. В конце концов, конечно, нас найдут везде. Прятаться придется не ради сохранения жизни, а ради укрепления наших душ перед решающей битвой. Давайте же не будем откладывать. Давайте хотя бы начнем борьбу против рабства суетливых страстей, давайте вспомним, что наш дом - не здесь, а в небесах. Давайте взыщем небесного отечества, как говорил преподобный Герман. К звездам! К звездам!.."
"Heavenly Realm" - Платина (Калифорния), 1984
Алексей Романовский
"Новый ковчег",
#4/2005